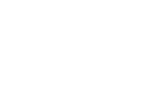Арнольд Иннокентьевич Харитонов

Арнольд Иннокентьевич Харитонов (25 января 1937, п. Жигалово Иркутской области ) — писатель, журналист, сценарист. Выпускник филологического факультета ИГУ (1961). Работал «на комсомоле» и в журналистике: редактором городской газеты в Зарафшане, спецкором иркутских газет по БАМу , гл. редактором кинопроизводства и зампредседателя Иркутского областного комитета по телевидению и радиовещанию . Автор многих сценариев к документальным фильмам. Много лет был заместителем редактора областной газеты « Советская молодежь ». Спецкор и обозреватель «Комсомольской правды-Байкал».
Однажды осенью прошлого века
Оказывается, я даже не шестидесятник. Начиналось-то всё в пятидесятых! Июль 1956 года. Жарко. Иду по улице Карла Маркса, сворачиваю на Вузовскую набережную. Коленки подгибаются, ладони потные. В руках у меня папочка, в ней бумажки: вожделенный аттестат зрелости, заявление, школьная характеристика (вот, оказывается, какой я хороший!) В кармане брюк от костюма, купленного на выпускной вечер, тяжёленький кругляшок, предмет моей скромной гордости – серебряная медаль (жаль, что её нельзя носить, чтобы все видели!).
В доме на Вузовской набережной
Напротив сада Парижской коммуны – величественное трёхэтажное здание, именно туда я иду. Это Иркутский государственный университет имени А. А. Жданова, моя будущая alma mater. Интересно, почему я волнуюсь? Ведь со мной моя медаль, а она как сим-сим – открывает двери в любой вуз, причём без экзаменов. Но в любой мне не надо, мне надо в этот.
Но выбрал я его не сразу. Было дело, собирался в сельхоз, на охотоведение, исключительно за компанию – там учились два моих товарища из Якутска. А то, что я никогда в руках ружья не держал да и в настоящей зверовой тайге не был, в расчёт почему-то не бралось. Хорошо, что мои учителя во главе с литераторшей Лидией Петровной Дмитриевской отговорили меня буквально на выпускном вечере. Главный их аргумент: «Ты же прирождённый филолог!» Не знаю, может быть...
Итак, университет. Филологическое отделение историко-филологического факультета. Это всё, что я знал о том, где и на кого собираюсь учиться. Впрочем, нет – я знал ещё, что А. А. Жданов – это один из наших вождей, он разоблачил журналы «Звезда» и «Ленинград», которые шли куда-то не туда, к тому же публиковали чуждых нам литераторов Ахматову, Зощенко и других. Это мы проходили в десятом классе. Слава богу, в университете я понял, что дело обстоит как раз наоборот – Андрей Александрович оказался плохим, а изруганные им литераторы – хорошими.

Иркутский университет имени Жданова. Середина ХХ века
Князь Чачба
Открываю солидные двери. Первое, что вижу – объявление в траурной рамке: «Коллектив университета выражает глубокое соболезнование Юрию Львовичу Шервашидзе по поводу безвременной кончины его жены». Как ни странно, это печальное сообщение как-то меня успокоило. Может быть, мысли мои были такими: ага, значит, тут обитают не боги, они тоже смертны...
Тут кстати будет сказать несколько слов о Юрии Львовиче, больше может не появиться повода рассказать об этом человеке, а был он довольно незаурядным. Он преподавал политэкономию социализма, предмет, который не вызывал у нас интереса. Но, слава богу, Юрий Львович был педагогом весьма снисходительным. Мне, например, он поставил зачёт после того, как я надолго задумался над ответом. Педагог сказал: «Сочувствую – довольно трудно вспомнить то, чего не знаешь». Я согласился: действительно, трудно...

Здание Иркутского института благородных девиц. Конец ХIX – начало ХХ века
Был он невысок, изящен, с широкими, прямыми, как бурка, плечами, с крючковатым носом. Чудилось в нём что-то аристократическое, а может, это я позднее надумал, когда узнал о его происхождении: Юрий Львович оказался потомком владетельных князей Абхазии (абхазский вариант фамилии Чачба). Я даже (всё это в будущей жизни, которая тогда рисовалась довольно туманно) побывал в древней столице Абхазии селе Лыхны и лицезрел развалины летней резиденции князей Чачба. Но особенно меня поразила встреча с моим педагогом на страницах книги моего любимого Искандера – оказывается, в юности эти два человека дружили. И хотя фамилия у писателя не называлась, его друг проходил под именем Князь (на Кавказе каждый второй князь), я легко мог узнать его – Фазиль Абдулович сообщал такие факты из биографии моего героя, что спутать было невозможно – в частности, что Князь оказался в Сибири, преподавал в университете и скоропостижно скончался. Всё совпало. В оправдание непопулярной профессии педагога добавлю, что он был блистательным лектором-международником, может быть, в этом качестве самовыражался. Его причудливая и определённо трагическая судьба окрашивалась ещё большей загадочностью по причине того, что он оказался однолюбом – до конца дней оставался верен памяти жены и жил анахоретом. Скончался в одиночестве, в запертой квартире с ним была только собака...
Спасительная справка
Но вернёмся в лето 1956 года. Коридоры старинного здания были сумрачны даже в яркий солнечный день. В приёмной сидели в основном молодые симпатичные девушки, замотанные общением с абитурой – наплыв был солидный. На меня, однако, посмотрели с интересом: парень с медалью хочет учиться на филолога – это было явление не частое. Наш факультет, как я позже узнал, был по преимуществу девичьим.
Благополучно сдав документы, я уехал домой, в Ангарск, в свой барачный, окружённый зонами восьмой район.
Но уже второго августа я вновь посетил прохладные стены университета. В этот день мои будущие сокурсники писали сочинение, а я явился за... справкой о зачислении. Видимо, это был случай нечастный, обычно медалисты зачислялись вместе с остальными соискателями звания студента, но у меня были особые обстоятельства – повестка из военкомата гласила, что третьего августа я должен был явиться с кружкой-ложкой, наголо постриженным и отправиться служить в ряды Советской Армии. Эта перспектива мне не улыбалась, потому я с трепещущим сердцем появился на пороге приёмной комиссии и робко попросил выдать мне эту бумажку. Девушки удивлённо переглянулись и отправили меня к председателю комиссии.
Эта влиятельная дама восседала в отдельном кабинете. Она посмотрела на меня подозрительно, как будто я просил у неё взаймы большую сумму денег, а она очень сомневалась в моей платёжеспособности. Закончив осматривать мою скромную фигуру, дама изрекла: «Выходит, что вы, молодой человек, не хотите укреплять ряды Советской Армии?» Усомнившись, что я в состоянии укрепить столь мощную систему и от этого несколько обнаглев, с трудом преодолевая юношескую застенчивость, я ответил вопросом на вопрос: «Скажите, у вас есть сын?». «Есть, и что?» – несколько растерянно ответила дама. «И вы бы хотели, чтобы он отправился...укреплять?» – продолжал я, леденея от страха. Она посмотрела на меня с интересом, потом открыла сейф, достала из него какую-то бумажку, что-то в ней написала, шлёпнула печать и молча протянула мне. Пробормотав «спасибо», я выскочил за дверь. Только там осмелился взглянуть на скромный документ, который, тем не менее, имел для меня судьбоносное значение. В полумраке коридора едва рассмотрел, что там написано, но слово «зачислен» понял.
Так, просто и буднично, без фанфар и оваций, я стал студентом ИГУ имени товарища Жданова.
На следующий день с этой бумажкой явился в военкомат. Там мне не дали и слова сказать – стали кричать по поводу отсутствия необходимого снаряжения, а также присутствия волос на моей голове. При этом я существенно пополнил словарь ненормативной лексики. От такой атаки я даже забыл про справку, но потом вспомнил. Она произвела на военных лёгкий шок, но потом меня хотели уличить в подделке документов. Майор сказал: «Где ты взял эту бумажку? Ещё экзамены люди не сдали». Сообщение о медали окончательно лишило военного дара речи и он куда-то исчез. Вернулся с подполковником, который нёс мою изрядно помятую справку. Он смотрел в неё, потом заметил и меня, точнее, мои очки: «Ну, и сколько у тебя там минусов?» – спросил военный. «Семь с половиной», – чуть слышно ответил я, чувствуя вину даже за близорукость. «Ну, и какого... вы мне голову морочите? – повернулся он к майору. – Какой из него солдат, когда он собственного носа не видит?» Вместо носа была названа другая часть моего организма. «Иди, учись, – напутствовал меня подполковник, – да не забудь с учёта сняться». Я, конечно, забыл. Но это совсем другая история.

А это сами девицы – благородные!
Нас мало, но... один в тельняшке
Потом был колхоз, в котором меня было потеряли (надо было где-то отметиться, что я прибыл, а я не отметился), но потом нашли. Ежегодное участие студентов в сельхозработах – отдельная тема, может быть, я к ней когда-нибудь вернусь. Но пока – конец сентября 1956 года, мы входим в аудитории университета. За сводчатыми окнами старого дома догорает осень, листьев на деревьях всё меньше, под ногами, соответственно, больше, дни короче – «унылая пора, очей очарованье»... Но нам не до уныния, а если о чарах, так на нашем факультете было столько чаровниц, что глаза разбегаются.
Из колхоза мы вернулись довольно сплочённой группой. Основной состав – девушки. Нас, парней, семь человек – демобилизованный матрос Иван Азаренко, хромой художник из Нижнеудинска Лёня Виницук; пятеро нас, вчерашних школьников, – Юра Николайчук из Улан-Удэ, Ким Балков из Баргузина, Валера Сафьянников из Ербогачёна, Андрея Дробота из Днепропетровска занесло в столь далёкие от тёплой родины края. И я, каким-то странным образом возглавивший всю эту разношёрстную команду в качестве старосты группы, – видимо, сыграла моя серебряная медаль да хвалебная школьная характеристика, которой даже я сам не поверил. К окончанию университета эта великолепная семёрка превратилась в тройку (Юра, Ким и я), остальные пали в борьбе с науками, Дробот, правда, перевёлся в родной ему Днепропетровск и там окончил университет в один год с нами. Сафьянников тоже окончил, но... через пятнадцать лет после нас, выбывая из университета и, подобно птице Феникс, возрождаясь в нём. Многие поколения филологов имеют право называть его своим однокурсником.

Вот и мы – не благородные. Группа филологического отделения. Автор в верхнем ряду крайний слева; крайний справа Ким Балков.
Учусь считать
Моя деятельность на посту старосты началась с эпизода, который я всю жизнь вспоминаю с ужасом. Дело в том, что староста должен был получить и раздать стипендию всей группе. Неизвестно почему первую стипендию я получал на две группы. Теперь умножьте 50 на 235 (такова была тогда стипендия) получится... правильно, 11750 рублей. Не знаю, сколько это на нынешние деньги, но тогда на них можно было купить два «Москвича», и ещё немного бы осталось. Такая сумма оказалась в моих руках, которые до того, пожалуй, больше десятки не держали. Ясно, что я раздавал эти деньги в полуобморочном состоянии. Когда же закончил эту процедуру, оказалось, что мне осталось на пятьдесят рублей меньше. Решил молчать. Но на следующий день ко мне подошла Дола Яшевская из параллельной группы (красивая, черноглазая девочка, между прочим) и робко спросила: «Скажите, сколько у нас стипендия?» Я назвал сумму. «Тогда, значит, вы дали мне лишних пятьдесят рублей». Так вот они где, мои кровные! Девочка оказалась не только красивой, но и честной.
Начались студенческие будни. Перед нами, желторотыми, готовыми удивляться всему, предстала череда разнообразных педагогов.
Учитель, древний, как латынь
Первым, пожалуй, назову латиниста Александра Ивановича Занкевича. Он был человеком очень старым, нам казался – древним (пожалуй, я сейчас достиг его возраста). Легенда гласила, что он преподавал латынь ещё в дореволюционной гимназии. Педагогом Александр Иванович был очень покладистым. Оценки он ставил только положительные. Замечания делал негромко и только по такой формуле: «Блондин развлекает брюнетку», «Брюнет развлекает блондинку». Никого из нас по фамилиям не помнил. Потому мы с Юрой Николайчуком могли в случае отсутствия одного из нас отвечать и за себя, и «за того парня» (правда, эта песня появилась много позднее). Во время перемен на кафедру не уходил – не успевал добраться туда и обратно. Апофеозом его отношений с нашей группой было то обстоятельство, что он... забыл прийти на экзамен. Мы были к нему снисходительны, он к нам – тем более. Мы, пожалуй, им даже гордились, как гордятся коллекционеры удачно приобретённым раритетом. А мы и были коллекционерами – собирали новые впечатления от вхождения в студенчество и от знакомств с новыми людьми.
Дама, приятная во всех отношениях
На первом курсе самым ярким педагогом следует признать Анну Петровну Селявскую. Она вела у нас фольклор и введение в литературоведение. Анна Петровна был дамой, приятной во всех отношениях, при этом я, в отличие от Гоголя, вовсе не вкладываю в это определение ни капли иронии. Она была миловидной, улыбчивой, доброжелательной женщиной.
Придя первый раз в нашу аудиторию, Селявская поздоровалась с нами и неожиданно спросила: «Знаете, что в этом здании было до революции?». Мы, разумеется, не знали. Анна Петровна лукаво прищурилась и продолжала: «Так вот, до революции здесь был институт императора Николая Первого, иначе говоря, институт благородных девиц. Училось здесь две с половиной сотни девиц ужасно благородных. А сейчас нас здесь почти четыре тысячи... – педагог с улыбкой оглядела нас и продолжила, – ...не благородных!» И звонко рассмеялась.
На первой лекции по фольклору она удивила нас тем, что рассказала несколько анекдотов, которым, правда, не хватало перца (было бы странно услышать перчёные анекдоты от вузовского педагога). На лекции по литературоведению блеснула не только интересным взглядом на литературу (впрочем, нас, вчерашних школяров, удивить было нетрудно, на первых порах мы удивлялись всему), но поразительной памятью – она цитировала прозу целыми страницами, не говоря о стихах. Мы слушали её раскрыв рты.
Расставшись с Анной Петровной на первом курсе, мы не встречались с ней до пятого. На последнем курсе она читала у нас основы литературоведения. Чувствуете разницу? Там «введение», а тут «основы»... Мы, признаться, её не почувствовали. Да и рты наши больше не открывались от удивления. Неужели с педагогом случилось нечто, и она стала менее интересной? Да ничего подобного, это мы вообразили, что много знаем, стали несколько циничными и не любопытными. Жизнь позже показала, что все наши знания мало что значат по сравнению по сравнению с жизненным опытом и интеллектуальным багажом педагогов.
Такой добрый невезучий профессор
Георгий Васильевич Тропин.... Этот педагог воспринимался студентами по-разному, от добродушной благожелательности до полного неприятия (некоторые приклеили ему кличку ГВТ, что расшифровывалось, как кое-что в тряпочке, и было неприлично и несправедливо). Я же вспоминаю о нём неизменно с доброй улыбкой. Более покладистого наставника трудно себе представить – он был лоялен на экзаменах и демократичен в общении. Редко кому удавалось поздороваться с ним первым, мы даже соревновались в этом – успеть сказать «здрасьте» раньше профессора – он умудрялся раскланиваться при встрече с каждым из нас, неизменно называя встреченного по имени-отчеству – он помнил нас всех!
Георгию Васильевичу не повезло – домик, в котором он жил, находился на улице 25 Октября аккурат рядом с нашим общежитием. При каждой новой вспышке нашей неформальной активности комендант Ольга Ивановна Вечер бежала к профессору жаловаться и требовать его явления в виде карательной экспедиции, полагая, что выше профессора в вузе никого нет. Он являлся, но функцию карателя исполнял смущаясь, с неизменной застенчивой улыбкой. Однажды, когда мы после весёлого застолья разбили в своей неспокойной комнате два стекла (и это в январе!), Тропин долго увещевал нас, говоря правильные слова про моральный облик советского студента и о недопустимости порчи социалистической собственности. В конце своей не очень уверенной речи он обратился прямо ко мне со словами: «А вот про вас-то я не думал, что вы тоже привержены к Бахусу». Это меня обидело – чем я хуже других?
Соседство с общежитием приносило профессору и другие неудобства. Однажды мы, человек пять, во главе с Саней Вампиловым и его гитарой, подошли под окна профессорского дома и нестройным хором пропели на известный мотив: «Гайда, Тропин, снег пушистый, ночь морозная кругом...»
На следующий день, когда мы курили на лестничной площадке, Георгий Васильевич подошёл к нам и сказал: «Ну, спасибо, вы вчера под моим окном так замечательно пели»! «Ну что вы, – пытался возразить Саша, – это не мы». «Вот как раз ваш-то голосок, Вампилов, – ответил ему профессор, – я я-я-явственно различил!» Он так вкусно растянул это «я», что мы поняли – профессор нисколько не сердится.
Георгий Васильевич был лингвистом. На первом курсе он преподавал нам «Введение в языкознание», на последнем – «Основы языкознания». Схема та же, что и с Селявской, только применительно к лингвистике.
Кстати, профессором он был не совсем настоящим – без защиты докторской диссертации. В этом тоже сказалась его невезучесть – докторскую он писал дважды, но...
Первый раз темой его работы была «Новая наука о языке» академика Николая Яковлевича Марра. Тогда эта «наука» была официально признана главенствующей в лингвистике, о ней одобрительно отзывался «во всех науках главный корифей» Иосиф Сталин. Этакая лысенковщина в языкознании... Но пришли другие времена. Академик скончался. Пошла обратная волна. После появления труда Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», ссылки на который стали обязательными во всех работах по языкознанию, марризм был официально заклеймён как антинаучное учение и сошёл со сцены. Вот тут всё было правильно – один шарлатан от науки развенчал другого. Но диссертация Тропина пошла коту в известное место.
Тогда лингвист взялся за другой «верняк» – стал исследовать труд властительного языковеда. Откуда ему было знать, что бессмертный вождь через четыре года скончается, и вскоре состоится двадцатый съезд, на котором Хрущёв зачитает секретный доклад «О культе личности и его последствиях»? Правда, об этом секрете на другой день знали все, кроме младенцев, которые не умели не только читать, но и говорить.
Понятно, что со второй диссертацией произошло то же, что и с первой.
Компенсацией такой фатальной невезучести и стало звание профессора без защиты...
Однако все эти неприятности нисколько не испортили добродушный нрав неудачливого лингвиста. Он остался всё таким же доброжелательным и улыбчивым. К тому же полюбил устраивать личную жизнь студентов. Меня он всё как-то пытался сводить с Лерой Тарасовой, подозревая между нами более пылкие отношения, чем доброе товарищество и в совместное участие университетском драмкружке.
И память... Когда мы нечаянно встретились с профессором лет через пятнадцать после моего окончания университета, он сходу вспомнил не только мою фамилию, но имя и отчество.
А что до диссертации и упрёков в конформизме... Что делать, время было такое – между лагерем и лояльностью к власти другого выбора почти не было. Ну, не родился Георгий Васильевич борцом, таких, как он, были миллионы...
Ах, я, кажется, увлёкся, перестал учитывать, что пишу для газеты! Да и как тут остановишься, когда вспоминаешь чудесные годы студенчества? А ведь надо ещё рассказать про Владимира Трофимовича Шклярова и обязательно не забыть Надежду Владимировну Ковригину... Это – необходимый минимум, но есть и ещё о чём вспомнить. И военную кафедру не хочется упустить, хотя бы майора Казакова, его помнят многие поколения студентов. Но об этом в следующем номере, если редакция разрешит.
Ну что же, редакция разрешила, читатели вроде тоже отнеслись вполне благосклонно. Идём дальше.
Возникает вопрос – почему именно осенью? Ведь есть и другие времена года. Весна – время пробуждения природы и чувств. Когда деревья одеваются, а девушки раздеваются, освобождаясь от зимних одёжек, и предстают во всей красе и соблазнительности. Лето – пляжи с окончательным раздеванием, где мы носимся почти обнажённые, как какие-нибудь древние греки; короткие ночи, длинные дни. Зима – ну, зиму я люблю как-то меньше; коренной сибиряк, с трудом переношу холода, видимо, сказывается мамина еврейская кровь.
Но осень... Дело вовсе не в том, что кругом роскошествует «пышное природы увядание», оно-то как раз приводит меня в уныние, как каждое умирание, к тому же медленное. Но моя осень всегда нёсла запахи свежей масляной краски и просыхающей извёстки – значит, наши классы и аудитории обновились. Значит, пришло время встреч с товарищами после каникул, обмена воспоминаниями и впечатлениями.
Несбывшаяся мечта художника
Возвращаясь в университет на второй курс, мы уже не были робкими школярами. И химик Лурье не имел права сказать мне при встрече: «Первокурсник, и уши холодные». Я сам могу это сказать кое-кому. К тому же мы подружились с ребятами, которые шли на курс старше и даже жили с ними в одной комнате (я, правда, жил нелегально, приобретя немалый опыт подпольщика). В нашей комнате дневал и частенько ночевал Саня Вампилов.
Вот и в этот день, вернувшись их родительского дома в Ангарске, я застал в нашей двенадцатой комнате Бориса Кислова, Андрея Румянцева, Саню Вампилова, моих сокурсников Кима Балкова, Юру Николайчука. Шёл большой совет, решался важный вопрос – хватит ли денег на ресторан, а если хватит, то в какой кабак пойти. Когда я присовокупил к общей мошне средства, выданные мне родителями на неделю, решили – хватит. Постановили идти в «Арктику», новый тогда ресторан, где громоздились фанерные льды, среди них бродили такие же белые медведи, за возвышением для оркестра сияло и переливалось холщовое северное сияние.
Выдвинулись на автобусную остановку. И тут нашего полку прибыло – из автобуса вышел Игорь Петров со стопкой книг, с чемоданом, к которому был приторочен подрамник с натянутым на него холстом. Холст был розового цвета. Саня отреагировал на это молниеносной остротой: «Картина называется – розовая мечта художника!». Игорь тут же откликнулся на приглашение разделить вечернюю трапезу, оставил свой багаж в комнате и присоединился к нам. Вечер удался.
А вот судьбу розового холста удачной не назовёшь. Игорь не претендовал на оригинальность творца – удовлетворился скромной судьбой копииста. Копировать принялся картину Саврасова «Грачи прилетели». Успел написать только церковную колокольню да ветки дерева. Дальше за дело принялась вся комната. Откуда-то прилетел грач размером значительно больше колокольни. Был он выполнен в непритязательной технике – шариковой ручкой. Говорят: «Первая ласточка весны не делает». Ласточка – может быть, но эта огромная птица с куриными лапами ещё как сделала! Разнообразные птицы полетели стаями. И не только птицы. Откуда-то взялась кошка, она повернулась к зрителям задом и бессовестно подняла хвост. Где-то вверху неизвестный зодчий выстроил домик, к которому вела дорожка. В конце она раздваивалась и исчезала за двумя дверцами с буквами «М» и «Ж». Саня внимательно осмотрел этот плод коллективного творчества и изрёк: «Вполне законченное произведение. Пора открывать вернисаж». Кто-то побежал за вином.

Мы же, но без девиц. Слева направо: Юрий Николайчук, Арнольд Харитонов, Ким Балков
Грызём гранит науки
Однако мы не только развлекались, но и ходили на лекции и семинары. Не всегда, но ходили. И тут нас ждали встречи с новыми педагогами. Не все они были интересны, но почти все полезны для нас, филологов. Сомнение вызывали разве что так называемые общественные науки – история КПСС, политэкономия социализма и марксистско-ленинская философия. Но это было неотвратимо, их надо было пережить, как детские болезни – корь, скарлатину... Хотя и там попадались интересные люди – про Юрия Львовича Шервашидзе я уже писал, но был ещё и Вадим Данилович Намсараев, личность неординарная, но о нём как-нибудь в другой раз.
Пережили старославянский язык, за него я получил первую в университете тройку. Посчитал её незаслуженной. Вроде ответил на все вопросы, и педагог Кира Борисовна Воронцова ни на чём меня не подловила, как ни старалась. Наконец ей это надоело, и она сказала: «Вам просто везёт. Но поскольку на мои занятия вы заглядывали не часто, вот вам тройка, и будьте довольны». Перемогли историческую грамматику (читай – древнерусский язык). Майя Липаритовна Арутюнян была строга, требовательна, но не придирчива и справедлива. Было у нас присловье: «Сдал историческую грамматику – можешь жениться», у технарей так говорили про сопромат. Кое-как сдали и её. Некоторые женились.
Преподавателей литературы у нас было несколько. Помню всех, но по-разному. Признавая немалые знания Надежды Степановны Тендитник, всё-таки должен сказать, что её лекции были довольно скучны. К тому же мы с удивлением увидели, что вузовская программа по литературе почти полностью совпала со школьной – ну, скажем, Пушкин, Лермонтов, Толстой, Гоголь, Островский – куда же без них? Но ведь и подход тот же – все они против царя и попов, хотя, как позже мы поняли, это не всегда так. И скука марксистко-ленинской методологи проникла во все поры, иссушила живую плоть мощной литературы – всё те же «лишние люди», «лучи света в тёмном царстве», «нигилисты» и «революционные социал-демократы». Появился Достоевский, про которого нам в школе ни гу-гу, но и он, этот вихрь мыслей, эта стихия добра и зла, был загнан всё в те же тесные рамки. Немного разнообразий внесла и Анна Леонидовна Рубанович, милое, доброе создание, но что она могла против засушившей всё и вся коммунистической идеологии? Она писала прозу и даже подарила мне свою повесть под названием «А песню нелегко сложить» с дарственной надписью: «Олегу Харитонову с пожеланием красивой жизни-песни». Даже сейчас, на закате жизни, не смогу ответить, сложилась ли эта песня...
О трёх наших педагогах хочется рассказать особо. Итак...
Лингвистика – наука точная
Владимир Трофимович Шкляров. Человек с заурядной внешностью – широкое лицо, небольшие глаза, курносый, всегда несколько красноватый маленький нос, обширная лысина. Внешность бухгалтера Вотрубы из кабачка «13 стульев». Улыбающимся я его не помню. Он преподавал современный русский язык. С тех пор я абсолютно уверен, что лингвистика такая же точная наука, как математика, физика, химия. Тут нет места творчеству. Надо просто знать, желательно назубок. Он знал всю академическую грамматику (которая также похожа на школьную, как алгебра на высшую математику) до всех комментариев, набранных нонпарелью или даже самым крошечным типографским шрифтом под названием бриллиант. Если я не совсем безграмотный, этим обязан доценту Шклярову. Он наc гонял и жучил. Даже будучи изрядными шалопаями, мы поняли, что это нам очень нужно. Диктанты мы писали на одни исключения из правил. Получить тройку у Шклярова было несбыточной мечтой. Двойка считалась неплохой оценкой, обычная – единица, кол. Зато когда пришло время писать государственный диктант перед выпускными экзаменами, у нас ни единой тройки не было.
Я писал у него курсовую на тему «Синонимы глаголов движения в поэме Маяковского «Владимир Ильич Ленин». У меня была скверная привычка дотягивать работу до невозможности (не сразу я избавился от неё), и эту свою работу тоже писал последними ночами перед сдачей Шклярову.

Группа филологов перед выпуском (год 1961). В первом ряду педагоги – Владимир Трофимович Шкляров, Надежда Владимировна Ковригина, Алексей Фёдорович Абрамович. Во втором ряду крайний справа – Арнольд Харитонов. В верхнем ряду третья справа – смешливая Надя Пуговкина. Фото из архива автора.
С тревогой ждал, как он её оценит, зная, что окончательную оценку сделают после защиты на кафедре.
Отзыв Владимира Трофимовича оказался неожиданно лестным. Я до сих пор помню одну фразу из этого отзыва и горжусь ею. Вот эта фраза: «Чувствуется тонкое филологическое чутьё в оценке слова». На защиту я шёл раскованный, без волнения, полагая, что минимум четвёрка у меня в кармане. А ушёл раздосадованный и с оценкой «удовлетворительно» в зачётке. Этого я никак не ожидал. Причина была проста – в списке использованной литературы не было словаря синонимов. Ну ладно я, ведь я им действительно не пользовался, как-то не приспела надобность. Но Владимир Трофимович, автор и соавтор нескольких словарей, он-то почему мне не подсказал? Наверное, невнимательно прочёл список использованной литературы.
Впрочем, горевал я недолго. Тройка так тройка, не первая и, увы, не последняя. Зато успел с девочкой в кино на очередной сеанс. Картина в «Гиганте» шла интересная – «Дело пёстрых».
Знание некоторых замысловатых формулировок из академической грамматики иногда могло пригодиться в жизни. Пригодилось, например, однокурснику Вампилова Вадику Гребенцову. Этот невысокий мальчик с ярко-синими глазами и длинными, как у девушки, ресницами был самым музыкальным на их поголовно музыкальном курсе. Потому, окончив университет, поехал поступать в Новосибирскую консерваторию. Среди прочих экзаменов надо было сдавать русский язык устно. Вадику попался предлог. Он не очень ясно представлял, что можно сказать об этой самой незначительной части речи. И тут ему вспомнилась формулировка из академической грамматики. Абитуриент вышел и отчеканил: «Предлогом называется агглютинативный префикс косвенного объекта». У членов комиссии от столь высокомудрого определения поотвисали челюсти – такую формулировку они давно забыли, а некоторые и не слышали никогда. Наконец кто-то пришёл в себя и, видимо, что-то вспомнив, спросил: «Откуда вы это знаете?» «Я окончил филологическое отделение Иркутского университета!» – гордо ответил Вадим. Члены комиссии наскоро посовещались, и председатель изрёк: «О чём тогда вас спрашивать? Вот вам пятёрка. Свободны».
Вскоре Владимир Трофимович покинул Иркутск. Говорили, что он учил русскому языку студентов какой-то страны недоразвитой демократии. Потом пронёсся слух, что он то ли заболел какой-то тропической болезнью, то ли его укусило какое-то зловредное экзотическое насекомое. Больше о нашем педагоге долго ничего не было слышно.
Когда у меня вышла книжка «Эх, путь-дорожка», мне неожиданно позвонил преподаватель кафедры журналистики ИГУ Леонид Леонтьевич Ермолинский и пригласил в гости. Мы были знакомы ещё с тех пор, когда он работал заведующим оборонно-спортивным отделом «Молодёжки» и звался простецки Лёней. Жил он от меня недалёко, достаточно пересечь проспект. Пришёл. Лёня предложил сразу сесть за стол, на котором стояла бутылка водки с хорошей закуской. «По какому случаю банкет?» – осторожно спросил я. «Хочу вместе с тобой помянуть хорошего человека, – ответил Ермолинский, – моего товарища Володю Шклярова. Спасибо, что вспомнил о нём».
Разговор продолжился за столом. Я узнал, что запомнившийся мне педагог ушёл из жизни нелепо и трагически. После заграничной командировки поселился он в одном из городов европейской части России. Возвращался с дачи. В ожидании автобуса присел на пенёк. Мимо проезжал лесовоз, полный брёвен. И надо же так случиться, что именно в этом месте воз рассыпался, брёвна рухнули на Владимира Трофимовича.
Вечная ему память! Мы, студенты середины прошлого века, те, кто ещё жив, вспоминаем его добром.
Абрамович и Горький

Алексей Фёдорович Абрамович преподавал у нас советскую литературу. Было известно, что он подвергся репрессиям и был сослан к нам в Сибирь. Этим педагогом мы гордились. Дело в том, что он знал всех советских писателей лично. Ну, если не лично, то видел, встречался. Был на вечерах Маяковского в Политехническом музее. С Есениным отдыхал в одном санатории. Демонстрировал нам членский билет Союза писателей, подписанный Горьким.
Кстати, с главным пролетарским писателем наш педагог встречался в его доме. По молодости работал он в газете одного из приволжских городов, пожалуй, что в Астрахани. Делегация провинциальных писателей приехала в Москву для встречи с Горьким. Корифей советской литературы принимал коллег радушно, тем более что они привезли ему в подарок немало фруктов. Правда, знаменитый астраханский арбуз не довезли, съели по дороге, в чём честно признались. Алексей Максимович улыбнулся, спрятав свою знаменитую улыбку в не менее знаменитые усы, и пророкотал, упирая на звук «о»: «Ах вы, черти драповые!».
Но особенно нас поразило, что наш педагог даже осмелился спорить со своим знаменитым тёзкой. Насколько помню, разговор шёл об использовании диалектизмов в русской литературе. Горький был горячо за, Абрамович – категорически против. Аргументировал свою убеждённость необходимостью для советской литературы встраиваться в мировую. «А как, скажите, переводить на другие языки произведения, перенасыщенные местными говорами? – горячился молодой литератор. – Как, например, скажите, переводить Серафимовича?». «Ну, вы этого старого протопопа оставьте в покое, – добродушно отмахивался классик от оппонента, – пусть пишет как может. И переводить его не надо!».
Алексей Фёдорович очень жалел, что ещё одной встрече с Горьким предпочёл авиационный праздник в Тушино.
В конце своего рассказа о Горьком наш педагог лукаво улыбнулся и сказал: «А знаете, он очень неплохо жил, наш буревестник!».
На Константина Федина Абрамович обижался за то, что он, воспользовавшись ссылкой Алексея Фёдоровича, скупил за бесценок всю его обширную библиотеку. «Пусть бы покупал, – говорил он, – но хоть заплатил бы как следует!»
Рассказывал такую историю про Сергея Михалкова, тогда молодого и безвестного поэта. Якобы он появился в редакции газеты волжского города ограбленным, чуть ли не в кальсонах. И попросил денег с обещанием выслать по приезде в Москву. Но ему сказали: «Мы вас знать не знаем, а незнакомым денег не даём. Были бы стихи – другой разговор». Поэт попросил перо и бумагу и тут же написал десяток стихов. Искомую сумму выдали.
Алексей Фёдорович был преподавателем добрым, человеком покладистым и добродушным. Ниже четвёрки он никому не ставил. Лекций он почти не читал. Не потому, что не хотел – мы не давали ему развернуться, засыпая вопросами. Для нас история Клима Самгина была куда менее интересной, чем история встреч с тем же Горьким.
Когда мы уже окончили университет, по Иркутску прошелестел слух, что профессор Абрамович оставил жену и женился на своей студентке. Нас это сообщение, в отличие от ханжей, не возмутило, скорее восхитило.
В 1963 году Алексей Фёдорович перевёлся в пединститут Новокузнецка. В этом городе в 1974 году он скончался.
«Свадьба» не удалась, «Юбилей» состоялся

Спреподавателем зарубежной литературы Надеждой Владимировной Ковригиной я познакомился довольно своеобразно. На первом курсе она у нас не преподавала. Я, конечно, видел её, как и других преподавателей, но не знал. Это первое обстоятельство. Второе – вампиловский курс чуть не с первого семестра репетировал «Свадьбу» Чехова». Саня был за режиссёра и готовился предстать перед публикой в главной роли – жениха по фамилии Апломбов. Как-то получилось, что подключился к ним и я. На мою долю выпала роль Харлампия Спиридоновича Дымбы, «иностранца греческого звания по кондитерской части» (так как репетиции длились несколько лет, эту роль готовились исполнять многие, в том числе и Борис Кислов). Но дело как-то не ладилось. Решили пригласить режиссёра, а именно Надежду Владимировну, по слухам, у неё было театральное образование.
В качестве парламентария выбрали почему-то меня. Может быть, у старшекурсников уже был какой-то негативный опыт общения с педагогом. У меня не было никакого. Более того, я не знал даже, как её имя-отчество. Саня, большой любитель розыгрышей, назвал мне первое попавшееся, скажем, Мария Петровна. Когда я подступил с этим именем к педагогу, она хохотнула баском (впоследствии это оказалось её «фирменным» звуком) и сказала: «Вы как-то странно меня назвали. Вообще-то я Надежда Владимировна».
Не помню, почему, но «Свадьба» так и не сладилось. Однако наше знакомство и даже сотрудничество с Надеждой Владимировной развивалось не только по схеме «педагог – студент». Хотя и в таком качестве мы встречались нередко – Ковригина одна заменяла всю кафедру зарубежной литературы, которая должна быть на филологическом факультете. Потому она преподавала у нас семь или восемь семестров. Но что для меня было не менее важно, – она вела на факультете драмкружок, и я был у неё едва ли не первым артистом, несмотря на ощутимый дефект дикции.
Первая наша совместная работа – «Юбилей» Чехова, где я играл роль Хирина, как сказали бы профессионалы, – острохарактерную с комическим уклоном. У Чехова роль определяется так: «Хирин Кузьма Николаевич, бухгалтер банка, старик». А мне было чуть за двадцать. К тому же Хирин – старик нервный, вздорный, вспыльчивый... Сейчас я эту роль сыграл бы легко, и грима не надо. А тогда... замечательный артист драмтеатра Абрам Исаевич Руккер, посмотрев наш спектакль, сказал про меня: «Готовый характерный актёр». И добавил: «Вот только дикция...». Он, может быть, не заметил, что правдиво сыграть эту роль мне помогла Надя Пуговкина (эта румяная девушка играла Мерчуткину, старуху в салопе): она была очень смешлива, и, когда я гонялся за ней со счётами в руках, так неумело подавляла звонкий девичий смех, что, если бы я её догнал, то натурально огрел бы по голове, и комедия обернулась бы трагедией. «Вон! Искалечу! Исковеркаю! Преступление совершу!» – кричал я, Хирин. И ведь совершил бы, но, к счастью, не догнал – сцена маленькая, я в неуклюжих валенках, а Надя оказалась девицей довольно шустрой.
Были у нас с Надеждой Владимировной и другие сценические опыты, чтобы рассказать обо всех, надо писать отдельный текст... Но отношения у нас сложились замечательные – Ковригина была преподавателем, каких поискать, к тому же умна, иронична, что позволяло ей быть снисходительными к нам, юным шалопаям, но и достаточно требовательной. Чувство юмора у неё было отменное. Она помнила все курьёзы, которые студенты на экзаменах выдавали во множестве. Нам она рассказывала об одном старшекурснике с бурятского отделения, который пытался сообщить нечто про «Фауста» Гёте. Наскучив слушать путаные фразы, она попросила: «Лучше скажите, чем там всё кончилось». И студент изрёк: «Хорошо кончилось. Король дал им землю, и они стали выращивать овощи». «Откуда занесло этот огород в трагедию Гёте?» – через годы удивлялась она и смеялась своим низким, бархатным, раскатистым смехом.
Я провожал Надежду Владимирову домой после нашего выпускного вечера. Встречались мы и в другой, взрослой жизни. Эту встречу счастливой не назовёшь. Дело вот в чём. Когда я руководил фильмопроизводством иркутского телевидения, там был талантливый кинооператор, а потом и режиссёр Борис Шуньков. Выяснилось, что он сын Ковригиной. Работать с ним было нелегко – он страдал известной болезнью русских мужчин. Я пытался ему помочь, встречался с Надеждой Владимировной, мы вместе старались что-то сделать... Бесполезно. Летом 1995 года Бориса не стало.
Я пришёл к его маме. Мы почти всё время молчали. Надежда Владимировна вынула альбом... смотрели на фотографии... ребёнок, подросток, юноша... мужчина, Мастер... На следующий день нас ждали похороны. Я ушёл, поцеловав матери руку.
Похоронив Бориса, Надежда Владимировна уехала в Новосибирск, где жил второй её сын. Больше мы не виделись.
Наши педагоги... Они были разные, но каждый оставил какой-то след в моей судьбе и судьбах моих товарищей. Я нынешний старше большинства из них, если не всех. Но память не подводит, и помню их всех. И память эта в основном добрая.

Год 1959. Слева направо: Юрий Николайчук, Александр Вампилов, Арнольд Харитонов. (Фото Виталия Зоркина.)
Внуки спросят: – Что такое капиталист?
Как дети теперь: – Что это – г-о-р-о-д-о-в-о-й?. Владимир Маяковский
Владимир Владимирович ошибался – даже его гипотетические праправнуки хорошо знают, что такое капиталист. Более того, капитализм для них – куда более осязаемое явление, чем то «коммунистическое далёко», в которое собирался явиться поэт. А вот спроси нынешних детей, что такое колхоз, они вряд ли ответят.
Это сладкое слово «колхоз»
Мы приехали в колхоз,
Дело каждому нашлось:
Кто – капусту убирать,
Кто – частушки сочинять.
Студенческий фольклор
Но мы-то, советские студенты, знали, что это такое, не по учебникам, а по собственным мозолям. Я, например, отработал в этих коллективных хозяйствах (так расшифровывается аббревиатура «колхоз») три осени и два лета. Чего только я ни делал, в чём только ни участвовал! Лопатил зерно, сгребал зелёнку, таскал мешки, заготавливал веточный корм, копал картошку, картошку, картошку... Добро, если осень была сухой, но это редко – в основном приходилось добывать этот корнеплод из жидкой грязи, а то и пополам со снегом. Так что кем-кем, а маменькиными сынками мы точно не были.
Итак, сентябрь 1956 года.

Толпа студентов вывалила из вагонов на станции Кутулик. На площади за вокзалом стоят грузовики с досками вместо скамеек. Мы, группа первокурсников, садимся в студебекер, на который нам указал хмурый дядька в брезентовом плаще. Объявил – едем в деревню Тютрино. За рулём солдат. Всё по законам жанра – студебекер машина военная...
Знакомимся наскоро. Нас, парней, немного. Кроме меня – Ким Балков, забавный парнишка из Бурятии, Валерий Сафьянников из Ербогачёна, Юра Николайчук из Улан-Удэ, демобилизованный матрос Иван Азаренко, Лёня Виницук, художник из Нижнеудинска. Все эти люди и девушки между собой знакомы – вместе прошли через сито приёмных экзаменов. Чужаков двое – я, по причине наличия серебряной медали не сдававший экзаменов (этот факт уже группе известен), да некто Алексей, крупный, слегка прихрамывающий парень, про которого никто ничего не знает. Девочки быстро выспрашивают его и узнают, что он работал бойцом на мясокомбинате. Самая бойкая продолжает выпытывать: «А почему мы вас на экзаменах не видели? С медалью поступили? С золотой или с серебряной?» Ответ настолько неожидан, что озадачил всех: «С позолоченной», – отвечает боец. Мы все знаем, что такой медали нет, но молчим – нам ещё не приходилось встречаться с таким наглым враньём, и потому смутились мы, но не он. Он, пожалуй, даже до статуса мошенника не дотягивал. Просто катился по земле, не ведая, куда притулиться. Оказался в одном вагоне с нами и решил: чем я хуже студентов?
Чтобы совсем покончить с этим неизвестно как попавшим в нашу среду и в эти записки персонажем... В деревне Тютрино он вдруг объявил себя не то завхозом, не то помощником бригадира (бригадиром и старостой нашей группы неожиданно объявила себя крупная и властолюбивая девушка Наташа С.). Ходил в правление колхоза, входил в любые кабинеты – стоял на страже наших интересов, резонно рассудив, что нас, совсем зелёных, могут легко обидеть бывалые руководители коллективного хозяйства. Помню, однажды он на кого-то кричал: «Вы како мясо студентам даёте? Одни плёнки, жилы и кости? А чего сами его не едите?» В мясе он, боец скота, толк понимал.
Исчез Алексей так же неожиданно, как и появился. Больше о нём никто из нас ничего не слышал.
Студенты и армия едины
А мы тем временем обживали деревню Тютрино – одна улица из конца в конец. Лопатили золотое зерно, копали картошку. Нас поселили всех вместе в большой избе, которая ещё не обрела хозяев. Вдоль стен принимающая сторона соорудила нары, на улице прибили рукомойник, и на этом забота о нашем быте закончилась. Девушки заняли почти все нары, оставив нам небольшой угол, вполне, впрочем, достаточный, чтобы мы в нём поместились. Спали не раздеваясь (телогрейки, впрочем, снимали, но не больше). Мы-то, парни, ладно, мы и дома, в своих бараках и избах, не очень утруждали себя гигиеной. Но вот как девочки устраивались со своей заботой о внешности и физиологическими особенностями – ума не приложу. В баню нас, правда, иногда возили, раза два за месяц.

Но что особенно удивляло – хозяева и работники «коллективного хозяйства» попадались нам на глаза только в виде начальников и механизаторов – комбайнёров, трактористов, но не шофёров, баранки автомобилей крутили или солдаты, или направленные на уборку мужики из Черемхово. С молодёжью пересекались только в сельском клубе, где они предъявляли претензии на внимание наших девушек, что неизбежно вызывало конфликты. То есть сельскую молодёжь мы видели только на танцах и драках. Но и то, и другое им не светило – наши девочки, в основном вчерашние школьницы, опасались несколько диковатых и нетрезвых аборигенов, а для боевых схваток у нас был мрачный детина Азаренко, боксёр Ким, могучий Николайчук да мы, остальные, пехота, рядовые необученные.
Что касается кавалеров, то их хватало – стратеги битвы за урожай призвали в армию новобранцев, переодели их в бэушное обмундирование и отправили на поля мирных сражений. С нами в Тютрино соседствовали рекруты из Бодайбо. В основном они были столь же юны, как и мы, и потому добивались благосклонности городских прелестниц только мирными методами, к тому же несколько робели перед ними.
Сапоги рядового Ложкина
С солдатами мы дружили – болтали вечерами, курили на скамеечках, играли в волейбол. Где жили воины, не помню, наверное, в палатках. Но рядом с нашей избой соорудили пристрой и разместили в нём солдатскую кухню. Поваром назначили тщедушного паренька со специальной поварской фамилией Ложкин. Он, видимо, фамилии не очень соответствовал – с бедным Ложкиным всегда что-то приключалось – то суп пересолит, то каша у него подгорит. А однажды забрёл к нему на кухню молочный поросёнок, тыкался во все углы, изредка визжал, разрывая нежную душу солдата. Тот пытался изгнать его, но маленький свин был шустрее.
К тому же на кухню зачем-то зашёл молодой тракторист, и зверёныш мешал их беседе. Наконец воин не выдержал, и в каком-то тесном углу умудрился пнуть надоедливое животное тяжёлым солдатским сапогом. Попал как-то ловко – поросёнок упал, задрыгал ножками и затих. Ложкин обмер, первая мысль – как расплачиваться за колхозное добро? Но гость среагировал быстро – схватил нож, перерезал зверёнышу горло и спустил кровь. Проделав эту процедуру, поспешил успокоить воина: «У меня скоро свадьба, поросёнок так и так нужен, а с бригадиром я договорюсь».
Ах, эти тяжёлые солдатские кирзачи! К тому же у Ложкина они были на размер-другой больше, чем надо. Как-то под вечер мы играли в волейбол аккурат возле его кухни. Солдат услышал звук ударов по мячу и тоже решил размяться – покинул пост и встал в кружок. И надо же так случиться – от чьего-то неловкого удара мяч выкатился на дорогу, по которой как раз куда-то спешила полуторка. Солдат, как ему и положено, сообразил первым – ринулся наперерез машине спасать мяч.
Весь эпизод был скрыт от нас в облаке дорожной пыли, из которой вылетел сапог и тяжело плюхнулся на осеннюю траву. Мы кинулись бежать к месту трагедии. Пыль тем временем улеглась, и мы увидели сидящего на дороге воина в одном сапоге и мячом в руках. Мы склонились над ним, как над пострадавшим в бою героем. Он поднял голову, оглядел нас спокойно, а потом сказал: «Чего стоите? Попить дайте». Ему принесли ведро колодезной воды, он попил прямо из ведра, бросил в нашу сторону спасённый мяч, встал, подобрал сапог и, чуть прихрамывая, ушёл на кухню.
Сражение на току
Вообще первая колхозная осень для меня одета в солдатское хаки. Может, потому, что война окончилась каких-нибудь одиннадцать лет назад.
Ещё один эпизод, связанный с воином. Мы возили зерно с дальнего тока. Мы – это я, Ким, Валера Сафьянников и Надя Пуговкина. Возили на студебекере, рулил которым здоровенный солдат, по внешности и акценту явный прибалтиец, к тому же старослужащий. При нём состоял неизвестно для чего тщедушный новобранец. Пока мы совками сбрасывали зерно в ворох, воины удалялись на склад, где у них были какие-то важные дела с хранителем колхозных закромов. Возвращались раз от разу всё более оживлённые, к тому же запах от них сомнений не вызывал – пили они напитки отнюдь не прохладительные.
Чем-то это должно было разрешиться.
Финал этого эпического действа несколько затянулся. Однако начался он не тривиально. В кабине нас, кроме водителя, было двое – я и Надя. Наш возница вдруг остановил машину на полдороге и заявил: «Пойте, студенты, иначе дальше не поеду». «Как... петь? – опешил я. – Здесь? А что петь?» «А где же? – ответил воин. – Пойте что хотите, а то здесь и заночуем, скоро ночь...» Делать нечего, переглянулись мы с Надей и затянули «Ехал цыган по селу верхом...», причём смешливая девушка давилась хохотом.
А теперь представьте себе картину: посреди аларской степи стоит американская машина, из кабины доносится нестройное пенье, а трое в кузове ломают голову, с чего мы вдруг запели, мы же не заглядывали в склад...
Допели. «Молодцы, – одобрил бравый солдат, – хорошо поёте. Теперь и ехать можно».
Приехали на дальний ток. Собственно, никакого тока там не было. Просто ворох пшеницы высился на обочине скошенного поля, ничем не прикрытый и никем не охраняемый. Подъезжай кто хочешь, грузи... А если дождь, дело-то осеннее? А наплевать! «Всё вокруг колхозное, всё вокруг моё...»
Открыли борт кузова. Наш рулевой кое-как взобрался туда, покачиваясь, иногда падая, стал мешками затыкать дыры в углах кузова. Закончив этот тяжкий труд, он вывалился на землю и, чтобы не упасть, зацепился за Кима. С трудом сфокусировав на нём нетрезвый взгляд, он вдруг предложил: «Слушай, давай поборемся!». У Кима это предложение энтузиазма не вызвало, он отказался. Воина это не остановило, он стал цепляться за воображаемого противника, даже повредил ему кое-что из одежды... Пока не упал, при этом его шапка откатилась в сторону. Лёжа на земле, он издал не совсем понятный клич: «Где моя земля и небо, где моя зимняя шапка?». Может, он резко заскучал по родной земле Балтии или его смутили надвигающиеся сумерки – поди знай? Шапку он наконец нашёл, сумел подняться и добрести до кабины, где и обрёл покой. Мы набросали полный кузов зерна, разместились кто в кузове, кто в кабине и потревожили нашего водителя. Он встрепенулся, кое-как вспомнил, кто он и где, и принялся запускать двигатель. Но он почему-то не запускался. Солдат молча вышел, открыл капот и склонился над ним надолго. Настолько, что сумерки успели сгуститься до темноты. «Интересно, что он там видит?» – спросил любознательный Сафьянников. Вопрос был совершенно логичным. Мы решили проверить... Оказалось, что если он что-то видит, так только сны – положив буйну голову на мотор, воин спал тяжёлым хмельным сном. Разбудить его мы не смогли, только с трудом перенесли павшего ратника в кузов.
Ну, что будешь делать? Вопрос повис в воздухе. Находимся неизвестно где, водитель спит, машина не заводится, да если бы завелась, кто её поведёт? «Я, – вдруг активизировался второй, – я могу!» Мы впервые услышали его голос – это был юношеский фальцет с некоторой хрипотцой явно алкогольного происхождения.
Как ни странно, автомобиль завёлся сразу. И мы даже поехали. И ехали довольно долго. И благополучно. Тем более что в степи никаких особенных препятствий не имеется. Даже в виде милиционеров с полосатыми палками в руках. Наконец вдали замигали почти родные нам огни деревни Тютрино.
Но именно в это время мы заметили, что в кабине стало слишком тепло. Если не сказать жарко. И температура быстро поднималась.
«Кажись, движок перегрелся», – сообщил водитель и затормозил. Вышел из кабины, отвинтил крышку радиатора. Оттуда вырвался высокий белёсый столб пара, хорошо видный на фоне бархатно-чёрного неба.
«Дальше ехать нельзя. Рвануть может...» – сказал боец равнодушно. Совещались мы недолго. Решили идти пешком, благо было уже недалеко, а огни деревни не дадут заблудиться. Студебекер, колхозное зерно и павшего воина решили оставить на дороге, сообщив об этом командованию, оно на то и поставлено, чтобы принимать решения и меры.
Через какой-нибудь час мы были уже в родной избе и сообщали друзьям и подругам о своём приключении, слегка приукрашивая его и свою роль в нём.
Вот такой боевой была наша первая колхозная осень.
Заботы сельские
Живописать собственно пейзанские заботы и «пышное природы увядание» воздержусь – это куда лучше меня сделали классики. Хотя, конечно, всё это было – «в багрец и золото одетые леса» и прочие красоты. Но одна деталь навсегда осталась в памяти, это и у классиков не нашёл – юные лиственницы в пожелтевших мягких иголках казались подсвеченными изнутри каким-то тёплым светом.
Мы активно приобщались к сельским заботам. Мне, например, очень нравилось работать с комбайнёром. Ничего мудрёного в той работе не было – надо было следить, чтобы не забивался копнитель и вовремя выталкивать из него солому вилами, что не всегда получалось, и тогда приходилось прыгать внутрь, чтобы своим весом вытолкнуть копёшку и вместе с ней выкатиться на стерню, а потом догонять агрегат и на ходу вскакивать на него. Это было весело и даже азартно. Как-то раз (было это уже на втором курсе) в напарницы мне попалась девочка с первого курса Дина Азимова, миловидная южанка, очень маленькая и полная. Я же со своим ростом чуть выше 170 см и бараньим весом рядом с ней казался длинным. Со стороны, говорят, мы выглядели довольно комичной, почти опереточной парой. А наше поочерёдное выезжание верхом на копне могло бы стать в цирке неплохой клоунской репризой по названием «Толстый и тонкий».
Забавы невинные и винные
Ну и, конечно, нам были доступны простые радости – отдыхать на прогретом последним солнцем зерне рядом с нашими юными сокурсницами (это придавало нашему отдыху некий невинный, но явно эротический привкус), студенческая классика – песни и игры у вечернего костра, лёгкий флирт и прочие юные забавы. Я, например, имел большой успех, особенно у девушек, исполняя совершенно бессмысленные частушки-нескладушки. Вот два образца:
По базару я ходил,
Шубу новую купил,
Шуба нова, ворот старый...
Потерял мужик дугу!
Или ещё:
Меня милая не любит –
Пойду в речке утоплюсь.
А кому какое дело?
Только брызги полетят!
Вот эта бессмыслица имела у будущих филологинь сумасшедший успех. Настолько, что меня без конца просили повторять номер. Когда же мне надоело и отказался, на нарах встала во весь свой небольшой рост юная комсомолка в круглых очочках и строго сказала: «Как ты можешь отказываться? Ведь ты же мужчина!».

Были какие-то прямо-таки салонные игры. Например, кто-то выдворялся за дверь, компания готовила ему вопросы и, вернув его в помещение, эти вопросы задавала. Меня, например, спросили: «Какое у тебя любимое насекомое?». Я никогда энтомологией не интересовался и потому ответил первое, что пришло в голову: «Бабочка!». Раздался дружный девичий смех. Оказывается, в вопросе содержался намёк на мои юношеские усы, которых ещё не касалась бритва, и вопреки всякой логике ожидался ответ «Таракан».
Впрочем, среди этих невинных забав иногда выпадали и винные. Особенно 14 сентября, в день рождения Кима. Как-то в этот день мы с ним уединились в ближайшем леске в компании двух бутылок «Колгановой», кое-какой закуски, захватив зачем-то несколько тарелок и полный набор столовых приборов. Уходя, мы заботливо поддерживали друг друга, но оставили на месте пиршества не только пустые бутылки, но и всё, что принесли с собой. Наутро долго искали это казённое имущество. Но нашли.
Работаем "куда пошлют"
В колхозной жизни мы, все вместе и каждый в отдельности, исполняли очень важную функцию, которую простой народ определяет лаконично, а именно – «куда пошлют».
А посылали нас в самые разнообразные места. Один раз, например, мы меняли то ли бензин на цемент, то ли наоборот. Смысла этой сельской негоции я как не знал, так и не знаю, но ощущение маслянистой тяжести цемента на огромной совковой лопате помню до сих пор, как и одуряющий запах этилированного бензина, которым мы облились с головы до ног. Слава богу, никому не пришло в голову закурить. Хотя хотелось.
Однажды мы с Валерой Сафьянниковым исполняли вовсе уж незавидную роль магазинских подсобных рабочих, на которой в городах подвизаются, как правило, бомжи. Правда, товар, который мы грузили в районном центре и разгружали в Тютринском сельпо, был довольно деликатным, а именно арбузы. Мы таскали в кузов грузовика эти увесистые шары, день был довольно тёплым, хотелось пить, а больше всего – погрузиться разгорячённым лицом в прохладную, душистую мякоть продукта, от тяжести которого уже ломило руки.

Сидели на лавочке, отдыхали. Мимо катилась небольшим, но очень круглым шариком наша работодательница, продавщица из сельпо тётя Капа, существо хоть и суетливое, шумное, но доброе.
– Что, притомились, голуби, – проворковала она, – запалились? Пить, наверное, хотите? Так ведь арбуз – одна вода...
– А... разве можно? – робко спросили мы.
– Вообще-то нельзя, – бросила она, исчезая, – но они же бьются. Бой списываем...
Мы с Валерой понимающе переглянулись и двинулись в сторону подсобки. Кое-как дотащили до нашей лавочки два самых больших арбуза, хрястнули один из них о землю. Гигантская ягода развалилась на две неравные части, в которые мы погрузись по самые уши. Насытившись, второй арбуз мы положили в найденную на дворе рогожу и ударили об лавку осторожно – решили привезти гостинец товарищам и подругам.
Когда мы подъезжали к Тютринскому сельпо, у его закрытых дверей уже выстроилась немаленькая очередь. Вот тебе и « в полном разгаре страда деревенская»...
Своим товарищам и подругам мы тогда очень угодили.
К соседям
Когда выдавалось свободное время, мы, бывало, выбирались в сопредельные земли – знакомились с дружественными племенами старшекурсников или других факультетах. Но так как мы выбирались преимущественно в рабочее время, то заставали, как правило, несколько представительниц прекрасного пола, да и то они были очень заняты хлопотами по кухне. Но зато кое-где обнаруживали образцы туземного творчества, которое нам, зелёным, казалось верхом совершенства и остроумия. У филологов-второкурсников (потом их название установится на десятилетия как «вампиловский курс»), которые оккупировали деревню под названием Куйта, прочли в стенгазете такой замечательный опус (сотворённый явно под влиянием Есенина):
Село, значит, наше Куйта.
Дворов, почитай, полста,
Тому, кто оглядывал... вряд ли
Приятственны наши места.
У историков, отстоящих несколько дальше от изящной словесности, и вирши были попроще. Их племя захватило деревню под названием Хуруй (я тут ни при чём, такие у них там названия), отсюда и стихи. Их автор – будущий профессор, доктор исторических наук.
Осень. Воздух свеж и ясен,
Как ребёнка поцелуй.
И пейзаж совсем прекрасен –
Мы приехали в Хуруй.
Чувствуете разницу? Не шедевр, конечно. Но зато это единственное дошедшее до потомков стихотворное произведение именитого профессора.
* * *
Итак, колхоз с его своеобразным бытом и трудовой повинностью... Но как славно вспоминать эти осенние дни с расстояния прожитых лет! А ведь мы ещё и строили деревенский клуб, и валили лес, наплевав на технику безопасности. Хочется рассказать и об этих специфических занятиях, которые выпадали на нашу долю задолго до появления студенческих строительных отрядов. Пожалуй, я сделаю это. В рамках газеты, если редакция разрешит, а читателям будет интересно. Или вне этих рамок, если так фишка ляжет. Да, видимо, сделаю. Мне самому это интересно вспомнить.